Навигация
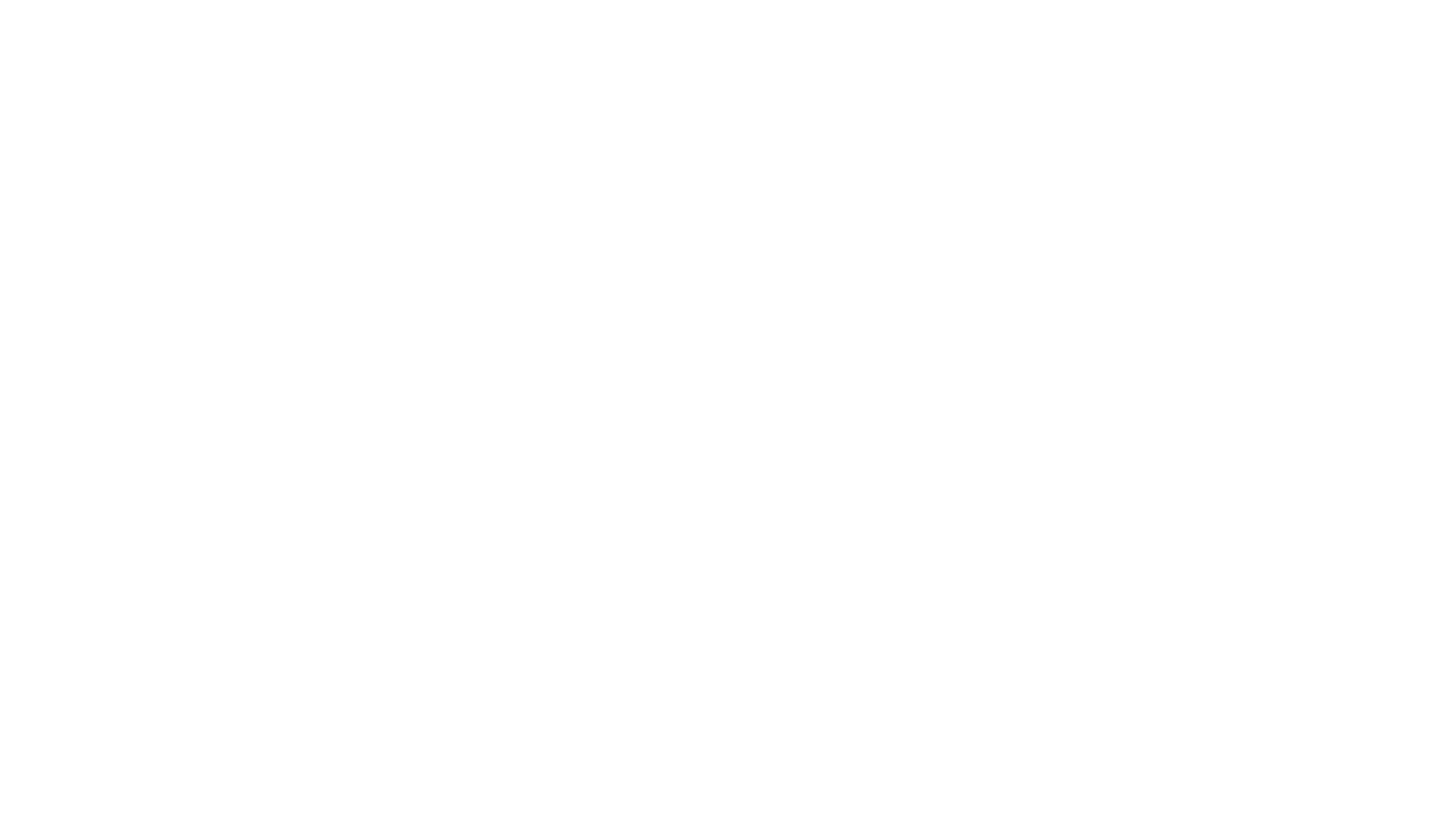
1
Сауле Дюсенбина / Saule Dyussenbina
Геральдический Орнамент / Heraldic Ornament
Из серии «Kazakh Funny Games» / «Kazakh Funny Games» series
Принт / Print
40.6 × 40.6 см
2017
Сауле Дюсенбина / Saule Dyussenbina
Геральдический Орнамент / Heraldic Ornament
Из серии «Kazakh Funny Games» / «Kazakh Funny Games» series
Принт / Print
40.6 × 40.6 см
2017
2
Сауле Дюсенбина / Saule Dyussenbina
Витрувианский человек / Vitruvian Man
Из серии “хочу чапан” / “I want shapan” series
Принт / Print
42 x 31 см
2017-2018
Сауле Дюсенбина / Saule Dyussenbina
Витрувианский человек / Vitruvian Man
Из серии “хочу чапан” / “I want shapan” series
Принт / Print
42 x 31 см
2017-2018
3
Сауле Дюсенбина / Saule Dyussenbina
Прогулка заключённых / Prisoners Exercising
Из серии “хочу чапан” / “I want shapan” series
Принт / Print
42 x 31 см
2017-2018
Сауле Дюсенбина / Saule Dyussenbina
Прогулка заключённых / Prisoners Exercising
Из серии “хочу чапан” / “I want shapan” series
Принт / Print
42 x 31 см
2017-2018
4
Алексей Шиндин / Aleksey Shindin
Атавизм / Atavism
Пэчворк / Patchwork
185 x 127 см
2019
Алексей Шиндин / Aleksey Shindin
Атавизм / Atavism
Пэчворк / Patchwork
185 x 127 см
2019
5
Диляра Каипова / Dilyara Kaipova
“Карамель Север”/ “North caramel”
Чапан, шелк, хлопок / Chapan, silk, cotton
115 х 180 см
2020
Диляра Каипова / Dilyara Kaipova
“Карамель Север”/ “North caramel”
Чапан, шелк, хлопок / Chapan, silk, cotton
115 х 180 см
2020
6
Диляра Каипова / Dilyara Kaipova
Красный олень / Red deer
Вышивка / Embroidery
70х80см
2019
Диляра Каипова / Dilyara Kaipova
Красный олень / Red deer
Вышивка / Embroidery
70х80см
2019
7
Бахыт Бубиканова / Bakhyt Bubikanova
Ренессанс Казах Ели / Renaissance of Kazakh ely
Фотопринт / Photoprint
70 x 63 см
2014
Бахыт Бубиканова / Bakhyt Bubikanova
Ренессанс Казах Ели / Renaissance of Kazakh ely
Фотопринт / Photoprint
70 x 63 см
2014
8
Бахыт Бубиканова / Bakhyt Bubikanova
Ренессанс Казахелианского Барокко / Renaissance Kazakheliyan barocco
Серия фотопринтов / Photoprint series
70 x 80 см
51 x 100 см
70 x 90 см
2014
Бахыт Бубиканова / Bakhyt Bubikanova
Ренессанс Казахелианского Барокко / Renaissance Kazakheliyan barocco
Серия фотопринтов / Photoprint series
70 x 80 см
51 x 100 см
70 x 90 см
2014
9
Aziza Shadenova / Азиза Шаденова
Девушки Кыргызстана / Girls of Kyrgyzstan
Серия фотографий / Photo series
29.7 х 42 см
2011
Aziza Shadenova / Азиза Шаденова
Девушки Кыргызстана / Girls of Kyrgyzstan
Серия фотографий / Photo series
29.7 х 42 см
2011
10
Марат Дильман / Marat Dilman
Photography / Фотографии
20 х 30 см
2017 - 2020
Марат Дильман / Marat Dilman
Photography / Фотографии
20 х 30 см
2017 - 2020
11
Ада Ю / Ada Yu
Любовники / Lovers
2 / 5 + AP Color darkroom C-Print
60 x 80 см
2009
Ада Ю / Ada Yu
Любовники / Lovers
2 / 5 + AP Color darkroom C-Print
60 x 80 см
2009
12
Леонид Хан / Leonid Khan
Тихо шумят деревья / Silently trees are noisy
Смешанная техника / Mixed media
35 x 45 см
2018
Леонид Хан / Leonid Khan
Тихо шумят деревья / Silently trees are noisy
Смешанная техника / Mixed media
35 x 45 см
2018
13
Ляззат Ханым / Lyazzat Khanim
Gen Z
Масло, холст / Oil on canvas
40 x 40 см
2020
Ляззат Ханым / Lyazzat Khanim
Gen Z
Масло, холст / Oil on canvas
40 x 40 см
2020
14
Ляззат Ханым / Lyazzat Khanim
Pillow Talk
Масло, холст / Oil on canvas
60 x 70 см
2020
Ляззат Ханым / Lyazzat Khanim
Pillow Talk
Масло, холст / Oil on canvas
60 x 70 см
2020
15
Леонид Хан / Leonid Khan
Собака / Dog
Коллаж из каталога Дэмьена Херста / Collage from Damien Hirst's catalogue
100 x 70 см
2016
Леонид Хан / Leonid Khan
Собака / Dog
Коллаж из каталога Дэмьена Херста / Collage from Damien Hirst's catalogue
100 x 70 см
2016
16
Роман Захаров / Roman Zakharov
Щетина, серия работ / Stubble series
Холст, спички, клей / Canvas, matches, glue
80 x 80 см
2017
Роман Захаров / Roman Zakharov
Щетина, серия работ / Stubble series
Холст, спички, клей / Canvas, matches, glue
80 x 80 см
2017
17
Ляззат Ханым / Lyazzat Khanim
renaissance
Масло, холст / Oil on canvas
40 x 40 см
2020
Ляззат Ханым / Lyazzat Khanim
renaissance
Масло, холст / Oil on canvas
40 x 40 см
2020
18
Леонид Хан / Leonid Khan
Do you have condoms
Смешанная техника / Mixed media
37 x 50 см
2018
Леонид Хан / Leonid Khan
Do you have condoms
Смешанная техника / Mixed media
37 x 50 см
2018
19
Ambujerba
Без названия / Untitled
Холст, акрил / Acrylic on canvas
60 х 60 см
2020
Ambujerba
Без названия / Untitled
Холст, акрил / Acrylic on canvas
60 х 60 см
2020
20
Ambujerba
Без названия / Untitled
Холст, акрил / Acrylic on canvas
61 х 89 см
2020
Ambujerba
Без названия / Untitled
Холст, акрил / Acrylic on canvas
61 х 89 см
2020
21
Ambujerba
Без названия / Untitled
Холст, акрил / Acrylic on canvas
60 х 60 см
2021
Ambujerba
Без названия / Untitled
Холст, акрил / Acrylic on canvas
60 х 60 см
2021
22
Сабина Куангалиева / Sabina Kuangaliyeva
Suicide notes
Открытки / postcards
10 x 15 см
2017-2021
Сабина Куангалиева / Sabina Kuangaliyeva
Suicide notes
Открытки / postcards
10 x 15 см
2017-2021
Текст к выставке
Куратор: Камила Нарышева
На первых этапах развития центрально-азиатского современного искусства мы наблюдали что-то вроде бунта. Художники пытались освободиться от советской парадигмы, социалистического реализма и цензуры. Современное искусство в Центральной Азии быстро стало достаточно акционистским, «громким» и критическим, чего раньше не было. Настоящее было насыщенным и сумбурным, будущее — всё ещё открытым и многогранным; культура ещё не оформилась и с готовностью поддавалась всем видам влияния. Аналитические произведения постсоветского периода наслаивались на новую культуру, которая в конце 1990-х только формировалась.
Несколько лет спустя мы наблюдаем культуру, которая начинает приобретать форму. С поднятием железного занавеса появились все типы новых источников культуры и информации. Интернет, международное телевидение, возвращение народов на историческую родину — перемены были стремительными и радикальными. Некоторые художники критически отнеслись к столь резкому сдвигу, наблюдая, документируя и изображая в большинстве случаев смехотворную природу отдельных вещей и событий. Искусство Центральной Азии никогда не переживало модернизм в его привычном смысле. Некоторые художники пытались приложить почти традиционную модернистскую парадигму к отдельным аспектам местного искусства, но это всегда оборачивалось постмодерном. А постмодернизм был той территорией, на которой локальное искусство расцветало. Ироничное, профанное, смехотворное тщательно анализировалось, проживалось, отражалось и изображалось. Конечно, это верно не для всех художников, и попытка объединить в их одну категорию была бы ложной и ошибочной.
К сожалению, всех художников по-прежнему так или иначе относят к одной категории. Представители центрально-азиатского современного искусства стали отдельной категорией на международной арене. И, как и в любом случае навешивания подобных ярлыков, существует ряд ожиданий, предъявляемых такого рода художникам. Номадизм, политика, способ изображения и отображения культуры в постсоветском и постколониальном понимании. Со стремительным сдвигом власти к авторитаризму и нетерпимостью правящего класса к оппозиции, единственной оппозицией осталось искусство. При этом площадками для выражения таких оппозиционных идей стали небольшие местные инициативы или международные художественные форумы. На международном уровне по умолчанию ожидалось, что повесткой центрально-азиатского художника будет либо политика, либо местная культура.
В этом вполне многоплановом, но ограниченном поле многие художники продолжали работать через аналитическую призму, создавая дискурсы, которые не существовали в повседневной, можно даже сказать «официальной», культуре.
Аналитику повседневности можно было применять к новой эстетике новообразованного региона даже помимо политики. За годы, прошедшие после развала Советского Союза, сформировалась почти реактивная волна противоположной эстетики. Новая эстетика культурных символов, использовавшихся практически повсеместно, как способ утвердить новую национальную парадигму, этническую принадлежность земли, идею, что данная территория стала абсолютно новой страной с по-прежнему богатой историей, звучала теперь отовсюду. Чтобы подчеркнуть, что эта новая культура традиций не менее богата, эстетика быстро сформировала новый идеал того, что следует считать богатым и радующим глаз.
Несколько лет спустя мы наблюдаем культуру, которая начинает приобретать форму. С поднятием железного занавеса появились все типы новых источников культуры и информации. Интернет, международное телевидение, возвращение народов на историческую родину — перемены были стремительными и радикальными. Некоторые художники критически отнеслись к столь резкому сдвигу, наблюдая, документируя и изображая в большинстве случаев смехотворную природу отдельных вещей и событий. Искусство Центральной Азии никогда не переживало модернизм в его привычном смысле. Некоторые художники пытались приложить почти традиционную модернистскую парадигму к отдельным аспектам местного искусства, но это всегда оборачивалось постмодерном. А постмодернизм был той территорией, на которой локальное искусство расцветало. Ироничное, профанное, смехотворное тщательно анализировалось, проживалось, отражалось и изображалось. Конечно, это верно не для всех художников, и попытка объединить в их одну категорию была бы ложной и ошибочной.
К сожалению, всех художников по-прежнему так или иначе относят к одной категории. Представители центрально-азиатского современного искусства стали отдельной категорией на международной арене. И, как и в любом случае навешивания подобных ярлыков, существует ряд ожиданий, предъявляемых такого рода художникам. Номадизм, политика, способ изображения и отображения культуры в постсоветском и постколониальном понимании. Со стремительным сдвигом власти к авторитаризму и нетерпимостью правящего класса к оппозиции, единственной оппозицией осталось искусство. При этом площадками для выражения таких оппозиционных идей стали небольшие местные инициативы или международные художественные форумы. На международном уровне по умолчанию ожидалось, что повесткой центрально-азиатского художника будет либо политика, либо местная культура.
В этом вполне многоплановом, но ограниченном поле многие художники продолжали работать через аналитическую призму, создавая дискурсы, которые не существовали в повседневной, можно даже сказать «официальной», культуре.
Аналитику повседневности можно было применять к новой эстетике новообразованного региона даже помимо политики. За годы, прошедшие после развала Советского Союза, сформировалась почти реактивная волна противоположной эстетики. Новая эстетика культурных символов, использовавшихся практически повсеместно, как способ утвердить новую национальную парадигму, этническую принадлежность земли, идею, что данная территория стала абсолютно новой страной с по-прежнему богатой историей, звучала теперь отовсюду. Чтобы подчеркнуть, что эта новая культура традиций не менее богата, эстетика быстро сформировала новый идеал того, что следует считать богатым и радующим глаз.
Так родилось казахстанское барокко, соединяющее как весьма традиционные элементы местной культуры, так и орнаментализм Франции XVII века. Сауле Дюсенбина и Бахыт Бубиканова отражают в своих работах то смешное, с чем особенно хорошо уживается эта новая эстетика. Местная культура становится смешением постсоветских культур, сосуществующих и сливающихся, как лоскутные корпе Алексея Шиндина или чапаны и вышивка Диляры Каиповой. Элементы каждой известной эстетики передаются в другую, создавая коктейль из странных, но уникальных составляющих.
Простое документирование новой эстетики — это иногда ещё не всё. Для многих молодых людей, проживавших 2000-е, данная эстетика не была странной, а, скорее, стала фоном их собственного взросления. Ребёнок, растущий в период перемен, в век стремительно возводимых небоскрёбов и одновременного перехода к традиционализму, не подвергает происходящее сомнению. Однако это оставляет впечатление. Многие молодые художники сегодня не прибегают к иронии и профанному, но находят новый способ выражения того, что значит быть центрально-азиатским художником с точки зрения рефлексии.
Само наблюдение за тем, как культура меняется и высмеивает саму себя, может быть редким навыком и достойной задачей. Но что значит быть человеком, живущим в этом странном нагромождении информации и культур в 2000–2010 годах? Фотографии Марата Дильмана подчёркивают — без намеренной иронии и какой-либо помпезности, посредством акцентов и исключительно через личную призму автора — текущее состояние культуры и окружающего мира. Работы Азизы Шаденовой по-настоящему вневременны и не привязаны к какому-либо периоду и в то же время предвосхищают «домашнюю» эстетику редакторской фотографии на 9–10 лет. Честность, с которой можно наблюдать состояние человека посредством деталей, — удел не столько аналитики, сколько чувства, что воплощает Ляззат Ханим, изображая повседневное в личной манере.
Любовь, а именно то, как любовь используется в качестве политического инструмента, — ещё одна тема политической дискуссии в искусстве. Работа Ады Ю, однако, возвращает любовь в поле чувственного, а Леонид Хан обозначает иное её состояние: любовь — это сфера интимного, соприкасаться с которой может быть страшно и неловко. Можно ли проживать бытие как чувственное и аполитичное? Проявляется ли чувственность в таких повседневных вещах, как сожжённые спички, или в том, как шумят деревья? Ощущаем ли мы общие символы в компьютерных мечах, оконных переплётах и странном чувстве принадлежности, которое формируется смешением культур и нашим способом их проживания?
Вечное чувство одновременной принадлежности и отстранённости — это своего рода фон того, как мы ощущаем бытие в настоящий момент в текущем пространстве. Своего рода существование здесь, везде, нигде.
Простое документирование новой эстетики — это иногда ещё не всё. Для многих молодых людей, проживавших 2000-е, данная эстетика не была странной, а, скорее, стала фоном их собственного взросления. Ребёнок, растущий в период перемен, в век стремительно возводимых небоскрёбов и одновременного перехода к традиционализму, не подвергает происходящее сомнению. Однако это оставляет впечатление. Многие молодые художники сегодня не прибегают к иронии и профанному, но находят новый способ выражения того, что значит быть центрально-азиатским художником с точки зрения рефлексии.
Само наблюдение за тем, как культура меняется и высмеивает саму себя, может быть редким навыком и достойной задачей. Но что значит быть человеком, живущим в этом странном нагромождении информации и культур в 2000–2010 годах? Фотографии Марата Дильмана подчёркивают — без намеренной иронии и какой-либо помпезности, посредством акцентов и исключительно через личную призму автора — текущее состояние культуры и окружающего мира. Работы Азизы Шаденовой по-настоящему вневременны и не привязаны к какому-либо периоду и в то же время предвосхищают «домашнюю» эстетику редакторской фотографии на 9–10 лет. Честность, с которой можно наблюдать состояние человека посредством деталей, — удел не столько аналитики, сколько чувства, что воплощает Ляззат Ханим, изображая повседневное в личной манере.
Любовь, а именно то, как любовь используется в качестве политического инструмента, — ещё одна тема политической дискуссии в искусстве. Работа Ады Ю, однако, возвращает любовь в поле чувственного, а Леонид Хан обозначает иное её состояние: любовь — это сфера интимного, соприкасаться с которой может быть страшно и неловко. Можно ли проживать бытие как чувственное и аполитичное? Проявляется ли чувственность в таких повседневных вещах, как сожжённые спички, или в том, как шумят деревья? Ощущаем ли мы общие символы в компьютерных мечах, оконных переплётах и странном чувстве принадлежности, которое формируется смешением культур и нашим способом их проживания?
Вечное чувство одновременной принадлежности и отстранённости — это своего рода фон того, как мы ощущаем бытие в настоящий момент в текущем пространстве. Своего рода существование здесь, везде, нигде.
Независимость и «национальное» искусство: можно ли изменить рамки?
Автор: Диана Т. Кудайбергенова, политический и культурный социолог, специализирующийся на изучении власти и национализма, элит и гендера.
Кураторы и искусствоведы традиционно утверждают, что искусство Центральной Азии ориентировано и зациклено на национальных идеях и находится в поиске национальной аутентичности. Это, однако, сужает возможности для самоидентификации художников как внутри страны, так и за её пределами. Неизбежен ли национализм в свободном художественном выражении? Почему и как территориальность и нарративы родной земли становятся доминирующими темами для центрально-азиатских художников?
Центр современного искусства в Центральной Азии стал совершенно новым средством культурного производства и выражения после развала Советского Союза, когда арт-производство стало площадкой для выражения независимых мыслей и идей, свободных от государственной цензуры. В сравнении с советской пропагандой полотен социалистического реализма многие художники восприняли это как независимое культурное производство, не финансируемое государством. Современное искусство воспринималось и как художественная свобода и расширение способов производства, и как возможность включиться в локальные политические дебаты и выйти на международную арену. В центре внимания современного искусства в Центральной Азии и Казахстане конкретно — нация и её территория, карта и географическая представленность которой определяются тяжёлым наследием советского строительства. Есть ли здесь место постнациональному искусству, и смогут ли художники раздвинуть границы «почвеннического» искусства, с которым их уже традиционно ассоциируют на международном уровне?
Развал Советского Союза вывел активно развивающиеся визуальные искусства региона на новый этап развития. Если «советский авангард призывал художников строить новый мир посредством искусства» (Nauruzbayeva, 2011a:13), то постсоветский период требовал критического авангарда и переоценки коммунистического прошлого и режима. Современное искусство рассматривалось как новая форма художественного производства и, что важнее, свободного художественного выражения в посткоммунистическом и постсоветском пространстве. Современное искусство в целом остаётся «радикально плюралистичным» (Groys, 2008:1) и открытым новым идеям. В постсоветской Центральной Азии многие современные художники считают себя постколониальным обществом, где их коренная культура «подавлялась» в советский период (Менлибаева) или где их национальная история и традиции «фабриковались и контролировались государством» (Сулейменова). Исторически советское государство пыталось тщательно определить рамки художественного и культурного производства и манипулировать им в своих целях в соответствии с государственной идеологией.
«Советское государство присваивало художественный труд непосредственно в части производства политической пропаганды. Предполагалось, что художники должны создавать искусство – социалистический реализм, – которое было бы формально актуальным и политическим, а не индивидуалистическим» (Nauruzbayeva, 2011a:12).
В условиях, когда социалистический реализм был единственной легитимной и практикуемой формой художественного производства, он существенно ограничивал всего прочие его формы. Он также имел целью создать «унифицированную» художественную форму для различных художников и художественных традиций народов, формировавших Советский Союз и Восточный блок. Как пишет Борис Гройс, «социалистическое реалистическое искусство всё больше очищалось от всех следов модернистских “искажений” классической формы — так, что в конце этого процесса оно стало легко отличимым от буржуазного западного искусства» (2008:144). То есть искусство, производившееся в советский период, было вынужденно сосредоточено на тех вещах и аспектах, которые были «определённо социалистическими и незападными: официальные парады и демонстрации, съезды Коммунистической партии и её руководства, счастливые рабочие, строящие материальную базу нового общества» (Groys, 2008:144). Это, однако, не останавливало многих советских художников Центральной Азии — советской «азиатской» периферии — от воплощения в искусстве национальных образов. В 1960-х годах с усилением националистических настроений в литературе и культуре новое поколение художников начало вносить в искусство национальные формы и сюжеты.
Центр современного искусства в Центральной Азии стал совершенно новым средством культурного производства и выражения после развала Советского Союза, когда арт-производство стало площадкой для выражения независимых мыслей и идей, свободных от государственной цензуры. В сравнении с советской пропагандой полотен социалистического реализма многие художники восприняли это как независимое культурное производство, не финансируемое государством. Современное искусство воспринималось и как художественная свобода и расширение способов производства, и как возможность включиться в локальные политические дебаты и выйти на международную арену. В центре внимания современного искусства в Центральной Азии и Казахстане конкретно — нация и её территория, карта и географическая представленность которой определяются тяжёлым наследием советского строительства. Есть ли здесь место постнациональному искусству, и смогут ли художники раздвинуть границы «почвеннического» искусства, с которым их уже традиционно ассоциируют на международном уровне?
Развал Советского Союза вывел активно развивающиеся визуальные искусства региона на новый этап развития. Если «советский авангард призывал художников строить новый мир посредством искусства» (Nauruzbayeva, 2011a:13), то постсоветский период требовал критического авангарда и переоценки коммунистического прошлого и режима. Современное искусство рассматривалось как новая форма художественного производства и, что важнее, свободного художественного выражения в посткоммунистическом и постсоветском пространстве. Современное искусство в целом остаётся «радикально плюралистичным» (Groys, 2008:1) и открытым новым идеям. В постсоветской Центральной Азии многие современные художники считают себя постколониальным обществом, где их коренная культура «подавлялась» в советский период (Менлибаева) или где их национальная история и традиции «фабриковались и контролировались государством» (Сулейменова). Исторически советское государство пыталось тщательно определить рамки художественного и культурного производства и манипулировать им в своих целях в соответствии с государственной идеологией.
«Советское государство присваивало художественный труд непосредственно в части производства политической пропаганды. Предполагалось, что художники должны создавать искусство – социалистический реализм, – которое было бы формально актуальным и политическим, а не индивидуалистическим» (Nauruzbayeva, 2011a:12).
В условиях, когда социалистический реализм был единственной легитимной и практикуемой формой художественного производства, он существенно ограничивал всего прочие его формы. Он также имел целью создать «унифицированную» художественную форму для различных художников и художественных традиций народов, формировавших Советский Союз и Восточный блок. Как пишет Борис Гройс, «социалистическое реалистическое искусство всё больше очищалось от всех следов модернистских “искажений” классической формы — так, что в конце этого процесса оно стало легко отличимым от буржуазного западного искусства» (2008:144). То есть искусство, производившееся в советский период, было вынужденно сосредоточено на тех вещах и аспектах, которые были «определённо социалистическими и незападными: официальные парады и демонстрации, съезды Коммунистической партии и её руководства, счастливые рабочие, строящие материальную базу нового общества» (Groys, 2008:144). Это, однако, не останавливало многих советских художников Центральной Азии — советской «азиатской» периферии — от воплощения в искусстве национальных образов. В 1960-х годах с усилением националистических настроений в литературе и культуре новое поколение художников начало вносить в искусство национальные формы и сюжеты.
Многие постсоветские современные художники занимались тем, что было определено (по советской традиции) как «национальное возрождение» в свете краха советской тоталитарной идеологии. Независимое искусство стало полем битвы за определение национального характера, где многие художники пытались преодолеть стереотипные границы и традиции «национального», унаследованные от советского и сталинистского понятий дружбы народов и советской национальной политики.
Местные искусствоведы привычно делят современных художников на тех, кто больше интересуется «национальной» историей и её изображением (некоторые даже называют их «почвенниками»), и на более космополитичных художников. Обсуждаются внутренний и внешний рынки для современных казахстанских художников — тех, которые ориентируются, главным образом, на местную аудиторию и, соответственно, выбирают идеи, касающиеся в основном этнического казахского населения, и тех, кто стремится выставляться за рубежом. Однако все подобные попытки отнести художников к той или иной группе слишком узки в контексте динамичной и постоянно меняющейся арт-среды региона, где многие художники не разделяют понимания географических границ, так называемых аудиторий, рынка или иных рамок для культурного производства, характерного для искусствоведов.
Я выступаю против такого разделения и показываю, что разных художников, которых считают «почвенниками», и их работы нельзя рассматривать в столь узком контексте. Многих известных казахстанских художников неоправданно обвиняют в национализме и считают исключительно «почвенниками», тогда как их работы отражают весь спектр современности в целом, а не только национализм. Это задача кураторской работы и толкования «глокализованного» искусства, которое ожидается от региона. Я утверждают, что восприятие искусства в контексте национальной или этнической принадлежности художника крайне устарело и обусловлено «советским» подходом и рамками, которые только вредят художественному развитию, поскольку ограничивают автономность художников и предписывают им определённую идентичность, которой они могут не обладать. При том, что данный процесс осмысляется в самых разных измерениях: постколониальная критика, тенденция к национализации, ориентализация и самоидентификация на глобальном рынке, и даже феминистское искусствоведение (Kudaibergenova 2016), —то, как сами художники относятся к этой очень сложной точке перехода, обсуждается редко. Их произведения отражают очевидный отход от официального искусства, одержимого такими «традиционными» культурными символами, как география и ландшафт (горы, реки, романтизированная степь), и от типично «националистического» почвенного искусства, которое кураторы пытаются им навязать. По сути, данное движение представляет собой хаотичное и автономное культурное производство, которое многие кураторы просто не могут «загнать» в одну конкретную категорию.
Проблема такой категоризации связана не только с так называемым советским наследием, но и со сложностью социальной реальности и «тотальным контекстом», если воспользоваться бахтинской формулировкой момента, в который органично возникает такой тип искусства. Художественное производство всегда отражает условия, в которых оно формируется, поскольку освещает главные вопросы, проблемы и парадоксы своего времени. Постсоветский «национальный вопрос» остаётся нерешённым и, главное, связанным с колониальным контекстом, из которого следует такой вопрос:
Проблема однобокого подхода к процессу «возвращения и возрождения» и его узкого понимания в «почвенническом» или националистическом контексте характерна для советской институционализации антинационализма и одновременной кодификации национально-театрального воплощения различий в каждой союзной республике — от Латвии до Узбекистана. Проблема такого уровня анализа заключается в том, что он слишком ограничивается старыми рамками вместо того, чтобы требовать глубокого переосмысления, реструктуризации и повторного анализа.
Местные искусствоведы привычно делят современных художников на тех, кто больше интересуется «национальной» историей и её изображением (некоторые даже называют их «почвенниками»), и на более космополитичных художников. Обсуждаются внутренний и внешний рынки для современных казахстанских художников — тех, которые ориентируются, главным образом, на местную аудиторию и, соответственно, выбирают идеи, касающиеся в основном этнического казахского населения, и тех, кто стремится выставляться за рубежом. Однако все подобные попытки отнести художников к той или иной группе слишком узки в контексте динамичной и постоянно меняющейся арт-среды региона, где многие художники не разделяют понимания географических границ, так называемых аудиторий, рынка или иных рамок для культурного производства, характерного для искусствоведов.
Я выступаю против такого разделения и показываю, что разных художников, которых считают «почвенниками», и их работы нельзя рассматривать в столь узком контексте. Многих известных казахстанских художников неоправданно обвиняют в национализме и считают исключительно «почвенниками», тогда как их работы отражают весь спектр современности в целом, а не только национализм. Это задача кураторской работы и толкования «глокализованного» искусства, которое ожидается от региона. Я утверждают, что восприятие искусства в контексте национальной или этнической принадлежности художника крайне устарело и обусловлено «советским» подходом и рамками, которые только вредят художественному развитию, поскольку ограничивают автономность художников и предписывают им определённую идентичность, которой они могут не обладать. При том, что данный процесс осмысляется в самых разных измерениях: постколониальная критика, тенденция к национализации, ориентализация и самоидентификация на глобальном рынке, и даже феминистское искусствоведение (Kudaibergenova 2016), —то, как сами художники относятся к этой очень сложной точке перехода, обсуждается редко. Их произведения отражают очевидный отход от официального искусства, одержимого такими «традиционными» культурными символами, как география и ландшафт (горы, реки, романтизированная степь), и от типично «националистического» почвенного искусства, которое кураторы пытаются им навязать. По сути, данное движение представляет собой хаотичное и автономное культурное производство, которое многие кураторы просто не могут «загнать» в одну конкретную категорию.
Проблема такой категоризации связана не только с так называемым советским наследием, но и со сложностью социальной реальности и «тотальным контекстом», если воспользоваться бахтинской формулировкой момента, в который органично возникает такой тип искусства. Художественное производство всегда отражает условия, в которых оно формируется, поскольку освещает главные вопросы, проблемы и парадоксы своего времени. Постсоветский «национальный вопрос» остаётся нерешённым и, главное, связанным с колониальным контекстом, из которого следует такой вопрос:
«С другой стороны, среди множества культур с колониальной историей, изучение художественного наследия той или иной культуры представляет собой не столько абстрактное интеллектуальное и академическое занятие, сколько импульс, который формируется идеалистической (и идеализированной) потребностью восстановить «аутентичную» доколониальную идентичность, или групповую стратегию создания воображаемой национальности. Возрождение и возвращение культурных традиций и их соответствующих визуальных воплощений, запутанных и размытых веками колониальных интервенций, переплетаются таким образом с политикой идентичности и понятиями нации»
(Capistrano-Baker, 2015:246).
Проблема однобокого подхода к процессу «возвращения и возрождения» и его узкого понимания в «почвенническом» или националистическом контексте характерна для советской институционализации антинационализма и одновременной кодификации национально-театрального воплощения различий в каждой союзной республике — от Латвии до Узбекистана. Проблема такого уровня анализа заключается в том, что он слишком ограничивается старыми рамками вместо того, чтобы требовать глубокого переосмысления, реструктуризации и повторного анализа.
Культурное развитие в современном Казахстане: Чья роль важна?
Автор: Айзада Арыстанбек, казахстанская интерсекциональная феминистка, активистка и ученый, специализирующаяся на гендерном насилии, гендере, культуре и национализме.
Взрослея в конце 90-х и начале 2000-х, понятие слова «культура» в Казахстане разбивалось на множество различных частей, которые не совсем удавалось собрать в единую мозаику. Все конфликты постколониального и постсоветского прошлого, вместе с эйфорией от недавно полученной независимости и сложностями еще не до конца осознанного политического режима, отдаются эхом, когда мы оглядываемся назад на культурное развитие страны в 21 веке.
Когда мы пытаемся понять, как развивалась культура в Казахстане за последние 20 лет, важно понимать, кому в этом процессе давалось больше всего ресурсов, власти и голоса. Кто допускается к столу, где принимаются решения о том, какое видение будет транслироваться широко в нашем обществе и какие мотивы у данного видения? Ответ, скорее всего, будет связан с государственным аппаратом и с патриархальной системой. Однако, вся прелесть культуры в том, что она неподвластна строгой диктовке и находит множественные способы меняться и задействовать новых персонажей в своем развитии. Культура, в особенности национальная культура, является ключевой частью становления нового общества и формирования национальной идентичности. Культура формирует общественные убеждения и нормы, а значит может быть опасным феноменом для тех, кто стремится контролировать и то, и другое. Следовательно, власть решается формировать культурное развитие на своих условиях, создавая законы и мнения, которые преподносятся как естественные и традиционные. Огромная часть культурного развития Казахстана произведена и подкреплена работой правительства. Для этого есть множество способов, но самые яркие, которые приходят на ум, это проведение таких крупномасштабных мероприятий как ЭКСПО 2017 и становление таких программ как Рұхани Жанғыру. Это вещи, которые производили значительный дискурс в обществе Казахстана, тем самым оставив значительный след, характер которого может быть разным для каждого, в культурном развитии страны.
Тем не менее, для меня лично, за подлинное культурное развитие в Казахстане, которое меняет сознательность людей, подвергает сомнению нормы и устои, и изобретает новые интерпретации традиций и идентичности, ответственно не правительство страны с его многомиллиардным бюджетом и различными стратегиями, а социальные движения и гражданский активизм. В контексте общества, где принята модель диктовки национальной идентичности сверху вниз, почти любые представления данной идентичности вне этой модели автоматически становятся частью контр-силы и субкультуры.
В любом творчестве и самовыражении важна честность. Без неё результат становится бездушным и блеклым, неспособным удержать на себе взгляд зрителя и пробудить в нём искренние чувства, будь они позитивные, негативные или смешанные. Честность идет рука об руку со смелостью. Это смелость представить многогранное будущее, обозначить важные контексты прошлого, и передать многослойность и запутанность настоящего. Честность и смелость являются антитезисом пропаганды и узких рамок, в которые так часто государство пытается уместить культурное развитие, не позволяя ему включать в себя те интерпретации и ответвления, которые могут идти наперекор желаемой «чистой» национальной идентичности.
Когда мы пытаемся понять, как развивалась культура в Казахстане за последние 20 лет, важно понимать, кому в этом процессе давалось больше всего ресурсов, власти и голоса. Кто допускается к столу, где принимаются решения о том, какое видение будет транслироваться широко в нашем обществе и какие мотивы у данного видения? Ответ, скорее всего, будет связан с государственным аппаратом и с патриархальной системой. Однако, вся прелесть культуры в том, что она неподвластна строгой диктовке и находит множественные способы меняться и задействовать новых персонажей в своем развитии. Культура, в особенности национальная культура, является ключевой частью становления нового общества и формирования национальной идентичности. Культура формирует общественные убеждения и нормы, а значит может быть опасным феноменом для тех, кто стремится контролировать и то, и другое. Следовательно, власть решается формировать культурное развитие на своих условиях, создавая законы и мнения, которые преподносятся как естественные и традиционные. Огромная часть культурного развития Казахстана произведена и подкреплена работой правительства. Для этого есть множество способов, но самые яркие, которые приходят на ум, это проведение таких крупномасштабных мероприятий как ЭКСПО 2017 и становление таких программ как Рұхани Жанғыру. Это вещи, которые производили значительный дискурс в обществе Казахстана, тем самым оставив значительный след, характер которого может быть разным для каждого, в культурном развитии страны.
Тем не менее, для меня лично, за подлинное культурное развитие в Казахстане, которое меняет сознательность людей, подвергает сомнению нормы и устои, и изобретает новые интерпретации традиций и идентичности, ответственно не правительство страны с его многомиллиардным бюджетом и различными стратегиями, а социальные движения и гражданский активизм. В контексте общества, где принята модель диктовки национальной идентичности сверху вниз, почти любые представления данной идентичности вне этой модели автоматически становятся частью контр-силы и субкультуры.
В любом творчестве и самовыражении важна честность. Без неё результат становится бездушным и блеклым, неспособным удержать на себе взгляд зрителя и пробудить в нём искренние чувства, будь они позитивные, негативные или смешанные. Честность идет рука об руку со смелостью. Это смелость представить многогранное будущее, обозначить важные контексты прошлого, и передать многослойность и запутанность настоящего. Честность и смелость являются антитезисом пропаганды и узких рамок, в которые так часто государство пытается уместить культурное развитие, не позволяя ему включать в себя те интерпретации и ответвления, которые могут идти наперекор желаемой «чистой» национальной идентичности.
Для меня, как той, которая росла вместе с нашей страной, особенно важно какое место отводится девочкам и женщинам в этой культуре. В то время как в официальной риторике правительства женщинам постоянно отводилась пассивная роль хранительниц очага, культурных носительниц и преумножительниц нации, в искусстве Казахстанских художниц, таких как Сауле Сулейменова и Алмагуль Менлибаева, женщинам предоставляется альтернативное место в истории и национальном строении общества. Дихотомия между представлением Казахстанских женщин в официальной государственной риторике и в искусстве самих Казахстанских художниц является ярким примером постоянного напряжения между видением власти и видением артистов и народа. Данное напряжение способствует продвижению альтернативных видений культурного развития страны. Творчество, существующее вне официальных узких рамок национальной идентичности, проводит настоящую деколониальную работу путем смелости и честности, смотря в лицо многослойному прошлому и предлагая постоянные новые интерпретации ответов на вопрос «Какая она, Казахстанская национальная идентичность?».
Многочисленные работы Казахстанских творцов, которые делятся своим видением, не останавливающимся в зоне комфорта, в разных сферах, будь то живописное искусство, кинематограф и музыка, составляют основную культурную структуру нашего общества. И их вклад в данную структуру становится всё громче и громче, благодаря нынешним реалиям технологического прогресса и моментального подключения. Однако с этим прогрессом мы также достигли той стадии, когда становится особенно важным распознавать подлинность искусства, чтобы понять новый этап культурного развития. Какое искусство создаётся без сенсационности и сведения культуры и идентичности к пустым символам? Как мы можем отличить, теряет ли искусство свой истинный культурный вклад в эпоху крупномасштабной коммерциализации? Какие еще привилегии и идентичности имеют значение, помимо государственных и негосударственных субъектов, когда мы думаем об иерархиях в культурном движении Казахстана? Это вопросы, которые нам стоит быть готовыми обсудить сейчас, когда мы вступаем в новое десятилетие и новый этап культурного развития нашего общества.
Многочисленные работы Казахстанских творцов, которые делятся своим видением, не останавливающимся в зоне комфорта, в разных сферах, будь то живописное искусство, кинематограф и музыка, составляют основную культурную структуру нашего общества. И их вклад в данную структуру становится всё громче и громче, благодаря нынешним реалиям технологического прогресса и моментального подключения. Однако с этим прогрессом мы также достигли той стадии, когда становится особенно важным распознавать подлинность искусства, чтобы понять новый этап культурного развития. Какое искусство создаётся без сенсационности и сведения культуры и идентичности к пустым символам? Как мы можем отличить, теряет ли искусство свой истинный культурный вклад в эпоху крупномасштабной коммерциализации? Какие еще привилегии и идентичности имеют значение, помимо государственных и негосударственных субъектов, когда мы думаем об иерархиях в культурном движении Казахстана? Это вопросы, которые нам стоит быть готовыми обсудить сейчас, когда мы вступаем в новое десятилетие и новый этап культурного развития нашего общества.